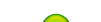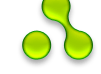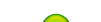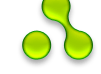С. А. Клычкова называли крестьянским поэтом, иногда мужиковствующим, не говоря уж о прочих, ушедших в прошлое, эпитетах. Перечитывая сейчас стихи Сергея Клычкова в новом современном издании, увидев их не на истлевших, бережно хранимых листках автографов или старых сборников, ясно сознаёшь, как много Сергей Клычков чувствовал своим вещим сердцем и сказал чистым нежным голосом поэта. Значение его поэзии выходит за узкие пределы чисто крестьянских тем и сельских мотивов.
Его поэзия — о жизни человеческой, о том, как не порвать связей со своим народом и природой в наш тяжёлый, а в иные годы грозный двадцатый век. Мы отошли "с путей природы", писал он.
Пускай земные брони-горы
Мы плавим в огненной печи,
Но миру мы куём запоры,
А нам нужны ключи.
С. А. Клычков трепетно чувствовал биение жизни, времени. Появление книги "В гостях у журавлей" — свидетельство того, как нужно и важно написанное человеком, способным собирать "следы русалок с трав". В воспоминаниях В. Н. Клычковой, жены поэта, есть запись о том, что когда было особенно одиноко и тяжело, он писал большие "письма неизвестному другу" — клал их в скворечник, как бы символически обращаясь к матери-природе. Современные читатели — и есть тот друг, который получил поэтическое по слание, новую книгу Сергея Клычкова.
Особенно близко наследие поэта его землякам. Именно на родине сложилась творческая личность. Именно здесь в детстве слушал он сказки своей бабки Авдотьи. Об этом есть записи воспоминаний Веры Антоновны, сестры поэта. "Из внуков любила она больше всего Серёжу. Сергей мальчиком, не в пример нам, очень красивый был: глаза синие-синие, цвет лица смуглый, волосы чёрные, походка лёгкая, сам высокий да тоненький".
Изба стояла на опушке, осенью вокруг неё выли волки, выходили из утреннего тумана лоси.
Отец поэта учился ремеслу сапожника в Москве. Когда Фёкле Кузнецовой исполнилось 16 лет, он посватался к ней по талдомскому обычаю: сунула она вечером ножку в подворотню, а на улице уже ждал Антон Никитич, снял мерку и засел на ночь за башмаки. Рано утром пришёл с готовой обувью как жених...
Фёкла была урождённая Кузнецова, отец, дед и прадед её были в Талдоме кузнецами.
Устинья, бабушка поэта по матери, была песенница знаменитая, без неё ни одна свадьба не игралась. Зимой дети жили в городе, где была четырёхлетняя школа. Забравшись на печь вечером,все слушали песни бабки Устиньи. Прожила бабушка Устинья до 86 лет. Первенца Серёжу родила Феклуша в дубровском лесу, в малиннике, принесла домой крикуна в переднике, и корзиночку с малиной не просыпала.
Антон Никитич хотел дать сыну образование.
Талдомский синеглазый мальчик вырос, прожил нелёгкую жизнь, через которую до самого конца он пронёс образы родного края, его сказки и песни. В его черновых набросках есть такие строки:
До слёз любя страну родную
С её простором зеленей,
Я прожил жизнь свою, колдуя
И плача песнею над ней.
Его никогда не покидало напряжённое желание принести пользу или отвратить беду своим поэтическим словом, совершить чудо. Не покидало его и пророческое ощущение опасностей современного мира:
Впереди— одна тревога
И тревога — позади.
Посиди со мной немного,
Ради Бога, посиди!
Посещали его и горькие думы, сомнения:
Пусть же здесь, где жемчугами
Убирал я каждый след,
Память сгинет вместе с нами
В омут чёрных, чёрных лет...
Нет, память не сгинула. Поэтическое слово вечно, каждая эпоха, новое поколение прочитывает поэзию заново и по-своему. Поэтическая сокровищница русского народа — живой неиссякаемый чистый источник.
Г. КЛЫЧКОВ, профессор, доктор филологических наук, сын поэта.
"Заря" от 17 июля 1986
|