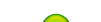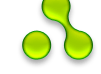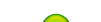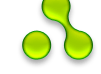Ярчайшим алмазом русской поэзии революционного века с полным правом можно назвать творчество новохристианского философского поэта Алексея Алексеевича Ганина (28.07.1893 — 30.03.1925).
Его судьба и творчество тесно сплелись с творчеством и судьбами крестьянской купницы, братьев по духу и вере Николая Клюева, Сергея Клычкова, Сергея Есенина, вышедших, как и он, «в люди» из мужицкой России.
В этих заметках мне хотелось бы поделиться некоторыми размышлениями по поводу знаменательных провидческих совпадений в жизни и творчестве Сергея Клычкова и Алексея Ганина.
«Предшественником Есенина» назвал С. Клычкова известный скульптор С. Конёнков. Думается, это же высказывание можно в полной мере отнести и к А. Ганину. Как заметил известный литературовед из Санкт-Петербурга А. Михайлов, А. Ганин — поэт, «близкий «крестьянской купнице» своим земледельческим мироощущением». Добавим — ещё и крестьянским, православным.
Почти во всех стихах и поэмах А. Ганина являются нам православные образы, а то и сам «светлый и ласковый Бог» (см. «Певучий берег», 1916), дающий возможность «взору преображённому» узреть Серафимов, учуять «голос Саваофий» (см. «Гору скорби День взвалил на плечи...») и пережить Воскресение, увидев, как:
Из всех гробов, проглоченных ночами,
Горя тоской по огненной реке,
Воскреснувшие тихо шли рядами,
И каждый нёс дела свои в руке...
(«Воскресение»)
Поэт обращается к Богу также и с просьбой: «Храни Господь в беде — не ровен час...» (в стихотворении «Заря в грозе. Помедли, путник смелый...»).
Тема непосредственного общения с Богом получает дальнейшее развитие и в поэмах А. Ганина:
О светлый Судия, взыскующего вора,
Когда приду в Твой рай, жестоко не суди;
Не ты ли разбросал сокровища пред взором?
Не скорби ли туман покрыл мои следы?
(«Мешок алмазов»)
Мечтает поэт о встрече со «светлым Хранителем», который «раскроет дверь — и в песнь обители// Уйду, погрязший в суете...» в трагической поэме «Сарай» <1917>, которая как бы предвосхищает кровавый шабаш булгаковского романа «Мастер и Маргарита».
Тема воскрешения через смерть проходит и в поэме «Звёздный корабль» <1916-1917>
Мы новую дань —
Семицветный ларец,
И злато, и ливан,
И смирну сердец
Несём, чтоб к пещере
Пред Вечным сложить
И в утреннем свете
Склонившись почить...
В завершении её поэт как бы подводит итог своим размышлениям:
Я только меняю личину
И пыль отряжаю от ног.
Для всех в золотую кончину
Вострубит серебряный рог.
Для Алексея Ганина характерно философско-космическое ощущение мира, восходящее в своих истоках к философии «русского космизма» Николая Фёдоровича Фёдорова с его спасительной идеей «вселенского воскрешения» умерших предков.
Философична и поэзия Сергея Клычкова, прошедшего путь от пантеизма к старообрядчеству и православию, что нашло особенно яркое отражение в его философских романах и затерянном поэтическом цикле «Заклятие смерти»:
Давно не смотрит Спас с божницы,
И свет лампад давно погас:
Пред изначальным ликом жницы
Он в темноте оставил нас!
Пред жницей страшной и победной,
Восставшей в пепле и крови,
Не смог остаться плотник бедный
Со словом мира и любви!
(Конец 1920-х — начало 1930-х гг.)
Нельзя не отметить и общность многих поэтических образов и героев у Клычкова и Ганина. Это народные фольклорные образы богатырей русских, в первую очередь Микулы (правнука) и красавицы Лады-Зари из «Былинного поля» А. Ганина, пытавшегося их повенчать, «чтобы в красном весельи воспрянула Русь» и была «красная воля»...
Для Клычкова Микула — это «земля, весенняя пахота», но поэму о нём он так и не создал. Зато воспел в тридцати стихотворениях цикла «Кольцо Лады» невесту, «красавушку», «паву» белолицую Ладу и окружающий её крестьянский мир во все времена года, а особенно её Деда, который, наработавшись за свой век, оставил внучке: Всё копленое добро — Шёлки, злато, серебро... («Хоромы Лады», <1910>) Образ такого же труженика-Деда встаёт в стихах А. Ганина «Певучий берег» (1916), «Она придёт, неведом час» (1917), в поэмах «Звёздный корабль» (1916-1917) и «Памяти Деда» (1918):
Сквозь голубые глаза
И небу,
И высокому Солнцу,
И каждой былинке, и птахе
Тысячи дней улыбалось
Дедово сердце...
В этой же поэме появляется образ журавля, по крику которого Дед предсказывает погоду: «...будет ли вёдро, будет ли непогодь ныне...»
Появление журавлей мы отметили ещё в двух стихах А. Ганина: «Зубастый прошёл по ниве зрелой» и «Мне гребень нашептал, что волосы редеют» (1919): «... И где-то далеко за рощей прозвенела// Осенняя печаль отлётным журавлём».
Последнее двустишие перекликается с клычковскими строками: «Лес шумит и шумит, опадая...» <1914>, «И я слежу живые звенья// С зари летящих журавлей...» («Иду в поля за божьей данью», <1922>).
Небезынтересна явная перекличка образов «облаков-коней»; появившись y А. Ганина в поэме «Облачные кони» (1918), они словно пришли из «Детства» С. Клычкова: «Понесутся, словно кони,// Надо мною облака...» <1910, 1913>.
И таких примеров можно привести немало не только в стихах, но и в прозе. Так, роман А. Ганина «Завтра» (1923) заканчивается рассказом о гибели на чугунке кобылы, которую ненароком переехал паровоз. Похожий эпизод описывает в своей автобиографии С. Клычков. Его любимую бабушку Авдотью вместе с лошадью также задавил поезд, ставший символом надвигающейся на крестьянский лад беспощадной бесовской цивилизации, «нового мира».
Как известно, С. Есенин, М. Герасимов и С. Клычков написали «Кантату», приурочив её к открытию мемориальной доски павшим героям Октябрьской революции. Близки по тематике к «Кантате» стихи А. Ганина «Сойди, сойди огнём, Рассвет!» (1919, «Священный клич» (1917) и особенно стихотворение «Братья, плотнее смыкайте ряды»:
Встанем же грозно, как вихри в ряды.
Трижды убитые в славе воскреснут.
Дни их прольются над вечностью песней.
Братья, плотнее смыкайте ряды.
Создаётся впечатление, что это стихотворение писалось А. Ганиным в 1918 году также в честь открытия мемориальной доски — настолько оно близко к «Кантате» по духу, стилю и образам, не говоря уже о стихотворном размере, почти ложащемся на музыку к «Кантате» композитора И. Шведова.
Много ещё можно размышлять о трагической судьбе поэта Алексея Ганина, но лучше всего о себе сказал он сам: «Я Песней ткал судьбу миров...» И эта песня осталась с нами.
Татьяна ХЛЕБЯНКИНА,
член Союза писателей России, зав. Домом-музеем С. Клычкова.
|