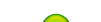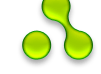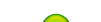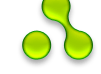«Не жалею, не зову, не плачу...» - эти строки Сергей Есенин посвятил своему другу поэту Сергею Клычкову, творчество которого только сейчас возвращается к нам.
Деревню Дубровки на севере Подмосковья, у Талдомa, «новые русские» еще не освоили. Почти все дома здесь, побогаче ли, победнее, выглядят вполне обычно. И только один какой-то уж очень основательный, в два этажа, кирпичный, прямоугольный, словно короб, безо всяких архитектурных изысков. Оттого, наверное, и смотрится чужаком. А может, потому что стоит на отшибе. Рядом ни деревца.
А когда-то, в начале века, к дому вела сиреневая аллея. Рядом был пруд с островком, на котором, говорят, иногда ставили стол с самоваром, чтобы со вкусом чаевничать. Сам дом утопал в яблоневом саду. В резной беседке играл граммофон - гости слушали Шаляпина, Собинова...
Хозяева дома, Клычковы, заработали на усадьбу, занимаясь башмачным ремеслом.
Сами осушили болота, вырыли пруд, насадили сад, поставили кирпичный дом. Сюда к младшему Клычкову, поэту, приезжали в гости друзья - Есенин, Пришвин, Коненков...
Летом Сергей ходил босой, в длинной рубахе. Высокий, плечистый, косая сажень, да и только. Волосы густые, черные, до плеч, и синие глаза. «Никого красивее молодого Клычкова не видела», - скажет о нем Анна Ахматова.
За домом чернеет лес. В народе его прозвали Чертухинским. Говорят, что там водится всякая нечисть или нежить, как чаще скажут талдомские. Лешие, русалки, говорящие птицы, звери, деревья, которые ходят в гости друг к другу, живут и в книгах Клычкова. Литературовед из Чехии, изучающая творчество Клычкова, так во всю эту нежить поверила, что, приехав однажды в Дубровки, отправилась в Чертухинский лес. Ее еле отыскали.
Клычкова высоко ценил Есенин. Птицей певчей называл его Сергей Городецкий. Он пел о деревне, о природе, но это не была пастушья пастораль. Его волновала судьба крестьянства. Он хотел рассказать о ней в девяти романах о самых переломных моментах российской истории. Три из них Клычков написать успел. Его "Сахарным немцем", романом о первой мировой, зачитывались современники. А воевали там, погибали, выживали и жили его односельчане.
Песни Клычкова пели и поют даже те же, кто о нем никогда не слышал. Вспомните: «Живет моя отрада». Это именно Сергей Клычков обработал стихи Рыскина, сделав песню народной.
8 середине 20-х годов Клыч-ковых раскулачили... В большом доме умолкли стихи, и, казалось, навсегда. Но нашлись люди, которые, не жалея сил, вернули Клычкова в эти места, в свой родной дом. Сейчас в нем Дом-музей Сергея Клычкова. Появился он во многом благодаря его директору Татьяне Хлебянкиной и журналисту Лидии Соболевой, сейчас - сотруднику администрации города Талдома.
Сама Лидия Александровна из Дубровок, в девичестве - Клычкова. Одна половина деревни у них были Голубевы, а другая - Клычковы. Бабушка рассказывала маленькой Лиде страшную сказку про соседа, который умел стихи красивые придумывать, да унес его черный ворон. Студенткой МГУ она обратится к преподавателю с просьбой рассказать ей о поэте Сергее Клычкове. "Поддай-ка земляку," - присоветовал преподаватель, поскольку в энциклопедическом литературном словаре Клычков был назван идеологом кулацкого движения и певцом кондовой Руси.
Долгое время имя Клычкова упоминалось только в контексте судьбы Есенина. Хотя на самом деле их отношения - не короткий штрих биографии. Это часть жизни обоих поэтов, которая, во всяком случае для Клычкова, значила очень много.
Он так и не поверил в самоубийство Есенина и считал эту трагедию неудачной игрой в смерть. Действительно, есть свидетельства, что Есенину приходила в голову мысль устроить розыгрыш из своего якобы самоубийства, а потом посмотреть, что об этом напишут газеты. И Клычков был
уверен, что в эту страшную игру он играл и в ленинградской гостинице "Англетер". Просто Эрлих, друг Есенина, не успел вовремя его спасти.
«Два друга, метель да вьюга», - говорил о Есенине и Клычкове Коненков. По некоторым данным, они познакомились еще в 1913-1914 годах в университете Шанявского. Но настоящая дружба пришлась на 1918 год. Тогда оба переживали увлечение революцией. Вместе с писателем Михаилом Герасимовым они решили написать киносценарий "Зовущие зори". Если бы написали, это был бы первый киносценарий о революции. Планировали написать и текст кантаты к открытию мемориала павшим, автором которого был Коненков. Есть сведения, что о замечательном скульпторе они хотели написать статью и даже взяли гонорар. С ним и растворились. Не в волшебном ли воздухе Дубровок?
В Дубровки Есенин приезжал не раз. В Талдоме до сих пор жив старик, который видел, как Есенин с Клычковым прогуливались по городу. Однажды Есенин проиграл молодежи в городки, и тогда по местному обычаю его решили катать "на баталках". Тут выбежал рассерженный Клычков и начал стыдить: «Это же знаменитый поэт Сергей Есенин!"
Но к 1920 году их отношения изменились. Клычков только что вырвался из Крыма. Там он потерял все деньги. Хорошо, что не жизнь. Дважды его хотели расстрелять. Худой, изможденный, в выношенной одежде, босой, он встретился с Есениным и спросил, нет ли у того лишних сапог. Есенин выглядел преуспевающим, франтоватым, но лишних сапог у него не оказалось. К тому времени у него были уже и новые друзья - Мариенгоф, Шершеневич, Кусиков. В 1920 году Есенин посвятит Клычкову стихотворение "Не жалею, не зову, не плачу". Это стихотворение, как проводы по самому себе, по молодости, по деревне.
- За что вы любите Клычкова? - спросила я Лидию Соболеву.
- За то, что он родной, - ответила она.
А почему я, человек нездешний, городской, не могу оторваться от клычковских "сада потаенного", "грусть-тумана", "сердца-соловья", "причесанных стогов"?.. Может, оттого, что Клычков - не сделанный, не придуманный, что так редко встречается и в людях, и в поэзии. Оттого ли это, что родился он в малиннике, куда мать его отправилась собирать ягоды, да и выкинула ребенка раньше времени? То ли потому, что под колесами паровоза погибла горячо любимая им бабушка Авдотья, которая открыла для него удивительный мир народных сказок. Но все искусственное - от изрыгающей газ машины до сконструированных, а не рожденных душой стихов - его отталкивало. Он мог переболеть революцией, идеализировать мужика и разочароваться в нем, но он никогда не сомневался, что жизнь и миф - это одно и то же. Уже взрослым он не раз ходил к озеру Светлояру, пытаясь отыскать там следы сказочного града Китежа. И даже прозу, серьезную, историко-философскую, писал, словно сказки рассказывал. Как дерево пускает корни,так и он рос из народного фольклора.
Никого из крестьянских поэтов партийные критики не травили так, как Клычкова. «Бард кулацкой деревни» - пожалуй, это самый мягкий эпитет для Клычкова. Стране, говорили, нужна сильная армия. А Клычков рассуждал о пацифизме. Об охране природы тогда задумывались только в узком кругу ученых. А для него это была одна из главных тем. Словом, уже с 1928 года его считали «неподлинным» крестьянским поэтом. Приставка про «подлинных» и «неподлинных» была почти официальной. Неподлинный, то есть не воспевающий коллективизацию. Значит, враг народа.
«Ты один у моего креста», - писал ему Клюев из ссылки. Потому что практически только Клычков с женой и помогали то деньгами, то посылками. Клычков рисковал, хотя сам уже давно был «на кресте». Последние два года жизни его не печатали. И все, за что бы он ни брался, вызывало шквальный огонь критики. Дошло до того, что в его переводе киргизского эпоса "Манас" усмотрели критику на современность. "Как могут быть кончики развевающихся перьев острее мечей? - доносил редактор Главлита в НКВД. - Не намек ли это на необходимость контрреволюции?»
Он знал, что его гонят к стенке. Пил отчаянно. Жил Клычков тогда в Нащокинском переулке, в доме писателей. Общался с Мандельштамами, к которым в гости нередко приходила Анна Ахматова. Заглядывала она и к Клычкову. Один раз пришла, а он, пьяный, сидел за столом. Она села рядом и выпила из его стакана водки. Может, помянула?
В начале 1980-х Лидия Соболева и Татьяна Хлебянкина побывают в гостях у близкого друга Клычкова, литературоведа Петра Журова, который был вхож в круг крестьянских поэтов, и спросят его, почему все-таки Есенин и Клычков так страшно пили. Журов скажет, что был человек, которому они напрасно доверяли. Его приставили к ним специально, чтобы спаивать. Кто этот «черный друг», кем приставлен - Журов не скажет. И через сорок лет, и в другой уже стране он продолжал жить в страхе. А какой же страх испытывали они тогда?
В музее Клычкова на одном из стендов есть фотография Клычкова в последний день его жизни на воле, на подмосковной даче в Лесном городке. Странный это снимок. На нем он лежит за пнем, словно прячется. Искал защиты? Клычков не верил в Бога. Но верил в черта. Он думал, что черт уже правит миром, раз невинные споры о смысле поэзии, о форме стихов закончились истреблением поэтов.
К тому времени проблема "неподлинных" крестьянских поэтов уже была решена. Выслан в Нарым Клюев. Репрессированы Васильев, Орешин... Клычков ждал своей очереди. Его любимым героем был леший Антютик, полулеший-получеловек из Чертухинского леса, который рождается раз в сто лет из пня при ударе в него молнии. Этот лешак - друг зверей и птиц. Он уводит их от беды. И Клычков, может, фотографировался за пнем с детской надеждой, что не Бог и уж, конечно, не черт, а лешак его спасет. Не спас. 8 октябре 1937 года Клычков был расстрелян. И на целых пятьдесят лет его имя вырубили из литературы.
В 1973 году в редакцию талдомской газеты "Заря" пришел брат поэта... Заняться Клычковым редактор поручил Лидии Соболевой. К его биографии она шла от эпизода к эпизоду. Потому что биографии, считай, и не было. Даже следов главного дела его жизни - книг, публикаций в газетах и журналах нигде не могла отыскать. Хотя издавался он при жизни весьма широко.
Не только Клычкова - книги всех репрессированных поэтов и писателей из библиотек были изъяты. Клычкова реабилитировали в 1957 году. Вскоре была создана Комиссия по его литературному наследию. Но и в 60-е, и позже, и даже в конце 80-х поэт Клочков оставался в тени. Куда только не писал его брат, на каждый очередной партсъезд, чтобы Клычков был реабилитирован по-настоящему, чтобы вернули его стихи. Но стену молчании так и не пробил.
А в Талдоме пробили. Около 20 статей напечатала Лидия Соболева о поэте. И постепенно его личность вырастала, словно талдомское дерево. А деревья в Талдомском крае особые: сильные, высокие, с густой кроной. Наверное, потому что на болотистой здешней земле только то дерево и выживает, у которого есть силы.
В 1979 году ему исполнилось бы 90 лет, и редакция решила отметить это событие широко, как возвращение поэта домой, пригласила известных гостей... Как ни трудно было' провести этот вечер - провели.
Без малого четыре часа, затаив дыхание, слушал зал историю жизни Клычкова и его стихи. С занавеса на всех смотрел Сергей. «Так высоко я его никогда не видел», - осторожно тогда сказал сын поэта.
С этого вечера, собственно говоря и началась вторая жизнь поэта. А в 1983 году Лидия Александровна отправилась в издательство "Художественная литература" с предложением издать сборник стихов Клычкова. И началось опять хождение по мукам.
Книгу Клычкова готовили без малого пять лет. Он уже был издан во Франции, Польше... Наконец в 1988 году вышел в свет и в России.
Кстати, автора предисловия, Николая Банникова, тоже нашла Лидия Александровна. Она познакомилась с ним на могиле прозаика Петра Слетова, которому в свое время дал путевку в литературу Сергей Клычков. Такие вот символические случайности происходят у многих, кто соприкасается с творчеством и судьбой Сергея Клычкова.
Когда-то давно Лидия Соболева забрела в Чертухинский лес. Гуляла там и думала о Клычкове. И вдруг из-за деревьев ей навстречу - больные дети, дауны, с бессмысленными глазами. Как же она тогда напугалась!
Все талдомские знали, что в доме поэта живут больные дети. Многие дубровкинские работали там нянечками, медсестрами, уборщицами... К детям по воскресеньям приезжали родители, люди обычно хорошо одетые, интеллигентные с виду. Еще рассказывали, что родители этих детей - ученые, которые занимались какими-то очень опасными опытами.
"Помни, человече, на каждом столбе при дороге и на каждой пылинке с нее дух невидимого почил... И в мире есть одна только тайна, в нем нет ничего неживого. Потому люби и ласкай цветы, деревья, разную рыбу жалей, хоть дикого зверя и лучше обойди ядовитого гада!" - вдруг вспомнились слова Клычкова из "Чертухинского балакиря". Слова-наказ в обращении с природой, которого эти ученые не читали. А Лидия Александровна тогда в лесу словно не с несчастными детьми встретилась, а с самим роком, который страшной платой настигает тех, кто покоряет природу.
Детей этих потом куда-то увезли. Владеть домом и землями вокруг стал Московский химико-технологический институт имени Менделеева. Ученые собирались построить здесь опытный завод. О том, что дом должны снести, узнала Лидия Александровна. Он и стоял-то уже полуразрушенный. Открыла дверь. И вместе с ней в дом вдруг влетела неизвестно откуда взявшаяся птица и разбилась прямо у ее ног. Оглянулась и увидела еще несколько погибших птиц. "Но больше всего люби крылатую птицу!.. Ибо птица есть образ души!" - вспомнилось из Клычкова. Тогда подумала: уж не душа ли это его никак не может успокоиться? Ведь никто не придет на его могилу положить цветы. Да и есть ли эта могила, если места захоронения расстрелянных не фиксироиались? А теперь вот и дом снесут...
К счастью, убеждать в необходимости спасения дома Клычкова уже никого особенно не потребовалось. Менделеевский институт согласился, что завод можно построить и в другом месте, и стал, кстати, большим другом и музея Клычкова, и города Талдома. Районные власти нашли для восстановления дома Клычкова средства. 19 июля 1992 года открыли музей. В этот день на полянку, что прямо перед домом, прилетели журавли. Птица, которую Клычков считал символом Талдомского края.
Когда я спросила Соболеву, зачем столько времени и сил отдано Клычкову, она сразу даже не поняла. Потом только ответила
- Да как же я могла отойти в сторону, когда узнала его судьбу, стихи! И потом, он ведь здесь жил.
Талдом совсем небольшой городок. А проблемы, как в большом городе, как по всей стране.
Восьмой месяц не платят зарплату в библиотеках, клубах. Но ни одну библиотеку, ни один клуб в районе не закрыли. Только вот воздушные шарики после праздников сдувают и и сейф. До следующего праздника.
Лидию Александровну Соболеву, к слову сказать, сократили. Есть и силы, и желание работать, но ей пятьдесят девять лет, а сейчас и для молодых работы нет. В Комитете культуры она занималась изданием талдомских авторов.
Наталья Кузина
У моей подруги на очах лучи.
На плечах узоры голубой парчи...
У моей подруги облака - наряд,
На груди высокой жемчуга горят...
Кто на свете счастлив? Счастлив, верно, я:
В тайный сад выходит горница моя...
Я играю в гусли, сад мой стерегу:
Ах, мой сад не в поле, сад мой не в лугу!
Счастлив я и в горе, глядя в тайный сад:
В нем зари-подруги янтари висят
Ходят звезды-думы, грусть-туман плывет,
В том тумане сердце-соловей поет...
Я устал от хулы и коварства
Головой колотиться в бреду.
Скоро я в заплотинное царство,
Никому не сказавши, уйду...
Мне уж снится в ночи безголосой,
В одиноко бессонной тиши,
Что спускаюсь я с берега плеса.
Раздвигаю рукой камыши,,.
Не беда, что без пролаза тина
И Дубна обмелела теперь:
Знаю я, что у старой плотины,
У плотины есть тайная дверь!
Пригрезился, быть может, водяной.
Приснился взгляд - под осень омут синий.
Но, словно я по матери родной.
Теперь горюю над лесной пустыней.
И что с того, что зайца из куста
Лихой ошибкой принял я за беса.
Зато, как явь, певучие уста.
Прослышал я в немолчном шуме леса.
Мне люди говорят, что ширь и даль
За лесом сердцу и глазам открылась,
А мне до слез лесной опушки жаль.
Худа ходил я, как дьячок на клирос.
Жаль белочью под елью шелуху
И заячьи по мелколесью смашки',
Как на мальчишнике засевшую ольху.
Одетую в широкие рубашки.
Теперь - кругом большие груды слег,
И небо смотрит набожно и тихо.
Лишь стежки лис, наброшенные в снег,
Как поднизи,2 забытые франтихой.
И надо мной, как сгаснет зимний день.
Лишь зверь теперь потужит из засады.
Что тень от облака да я, как тень.
Вдвоем бредем по дровяному складу.
А землякам, не глядя на мороз.
Приехавшим за бревнами на ригу,
Я покажусь с копной моих волос
Издалека похожим на расстригу.
Здесь: Смашки' - прыжки. Поднизь2 - жемчужная или бархатная сетка на женском головном уборе.
|