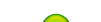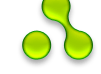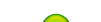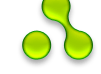Среди людей мне страшно жить,
Мне, как ребенку среди ночи,
Так хочется порой смежить
Души наплаканные очи.
Как на покойницу убор,
Легла на землю тень от плахи.
- Ты слышишь, что бормочет бор?
- Скажи ж, о чем щебечут птахи?..
На всех, на всем я чую кровь,
В крови уста, цветы, ресницы.
О, где ты, мать людей - Любовь?
Иль детям о тебе лишь снится?
Спаси, помилуй, пожалей
И не для казни и расплаты
Сойди и свет среди полей
Пролей на пажити и хаты.
Родимый край угрюм и пуст,
Не видно рыбаря над брегом.
И лишь улыбка чистых уст
Плывет спасительным ковчегом.
<1922>
Всего непосильнее злоба
И глаз уголки в черноте...
Быть может, и так пронесло бы,
Да радость и годы не те...
Земной я, как все, и не спорю,
Что в сердце - как в курной избе...
Но нет для меня больше горя -
Принесть это горе тебе...
Неплохо б узнать, хорошо бы
Размекать пораньше в тиши,
Что вот облака да сугробы,
Да дали одни хороши.
А тут всё так грустно и грубо,
И мне самому невдомек,
С чего я в пушистые губы
Целую в опушке пенек!..
И дрожь, и тепло на утробе,
Хоть губы твоим не чета...
И в облаке или сугробе
Земли пропадает черта.
И так хорошо мне в узоре
Дремотных прозрачных лесов
В недолгие зимние зори
Вглядеться без дум и без слов!..
И сердцем одним до озноба
Изведать предвечный покой,
К груди лебединой сугроба
Прильнув воспаленной щекой...
<1928-1929>
Меня раздели донага
И достоверной были.
На лбу приделали рога
И хвост гвоздем прибили...
Пух из подушки растрясли
И вываляли в дегте,
И у меня вдруг отросли
И в самом деле когти...
И вот я с парою клешней
Теперь в чертей не верю,
Узнав, что человек страшней
И злей любого зверя...
<1929>
Вот что неожиданно случилось со мной: второе - на сей раз истинное - открытие Сергея Клычкова, поэта отнюдь не второстепенного, как мне это раньше казалось, не подражательного ни Есенину, ни кому бы то ни было другому, кроме самой матери-природы. Клычков, прочтенный не вразброс, а целостно, поражает редкостной целомудренностью, не тронутой ни богемной растерянной расхристанностью, свойственной многим деревенским поэтам, всосанным в хрустящую крестьянами пасть города, ни изгойской завистливостью и мстительностью тех, кто разучился ходить в лаптях, но у кого не хватало денег на лакированные штиблеты, в которых очень хотится пройтиться.
С каким нежным вочеловечиванием Клычков написал об извечных инструментах крестьянского труда, воспетых еще былинами из времен Микулы Селяниновича: «И, как сторож, всю ночь стороною Ходит месяц и смотрит во мглу, И в закуте соха с бороною Тоже грезят - сияют в углу». В душе Клычкова слились в одно два сродственных слова «крестьянство» и «христианство». Именно о таких людях, как Клычков, в деревне говорили «Божий человек», что, конечно, отчасти звучало как «блаженный», ибо бескорыстие, доброта и умение говорить правду не со зла, а ради самой правды казалось на чей-то недоверчивый взгляд не совсем нормальным. Князя Мышкина называли идиотом, легко переходя от обожания к раздражению, потому что он непозволительно бередил совесть своими, видите ли, «бестактностями». А может быть, нормальными по замыслу природы являются как раз такие «Божьи люди», и детскость в них сохранена к счастью, а не к несчастью? И если бы побольше «Божьих людей» было на земле, так и поиски Бога развернули бы нас к человеку, ибо то, что мы называем Богом, и есть они, «Божьи люди», а такими людьми Россия не обделена, и надо только разглядеть их и не давать в обиду.
В уникальном романе Клычкова «Сахарный немец» (впрочем, роман ли это, когда целыми главами в рифму писано?) есть завидная по мудрости догадка о том, где правда прячется.
«- Мы, - говорят старцы правильные, - по белу свету ходим, Божью правду ищем, нигде не находим...
- Напрасно вы время проводите, - говорит сторож из ворот. - Правда Божья у черта в батраках живет...»
Там же посверкивают и пословичные играюще блескучие притчи Клычкова:
«Волк ест козу,
Коза ест лозу,
А сидят все на одном возу...»
Как чарующе сказано, а вдуматься - и мозги заскрипят: ведь волк, наверно, считает, что он делает «нужное для народа дело», поедая козу, поедающую лозу, а сама коза для лозы не лучше волка - поди разберись. Клычков всевышнего судии из себя не изображает, руками разводит, плечьми пожимает, а очьми улыбается и рифмочки подбрасывает:
«...Тут ничего не разберешь,
Живи как хошь,
Потому какая вошь
И та живет и жить хочет
И тоже о своей правде хлопочет...»
Клычков знает, как спасительна взаимоисповедальность: «Не прячь беду от свата и соседа И не скрывай ошибку иль вину...» А мы-то столь трусовато от собственного народа прятали, и до сих пор прячем, его беды. Тем более скрываем изо всех сил ошибки или вину. Подзабыли мы эту фольклором вынянченную истину: ложь, как дуга, середку в воду спрячешь, концы торчат, концы утопишь - середка выглядывает. А клычковские стихи на фольклоре, как на дрожжах, взошли - поэту никакие другие моральные памятки вроде тех, что адресовались строителям коммунизма, не нужны. Он вовсе не начетчик, и в его любви к жизни есть смачная озорнинка: «У нас в округе все подряд, Зубами расправляя кожу, Цветные туфли мастерят Для легких и лукавых ножек...» Это как веселый подмиг Александру Сергеевичу от деревенских соперников, которые лицеев не канчивали: «Мы тоже не лыком шиты!» А как природу русскую он чувствует, этот Арины Родионовны праправнук: «Скрипнет вот вечер калиткою, Шукнет вот ночь у ворот, - Выбежишь: облак каликою По полю, сгорбясь, идет». Бывают такие несказанно красивые строки, а в чем их красота - и объяснить невозможно. Наверное, в самой несказанности, которая однажды была всё-таки высказана. А ведь эта несказанность так бы и лежала незамеченной, если бы один добрый да зоркий поэт не обратил на нее внимания, не поднял ее, не одрагоценил своей нежностью.
Написал этот поэт деревенский такое, что проще некуда:
Впереди одна тревога,
И тревога позади...
Посиди со мной немного,
Ради Бога, посиди!
А вовсе не деревенская Анна Ахматова эти строки на память читала, с невеселой шутливостью «окая» в подражание автору - не ряженому, а настоящему крестьянину. Однажды навестила она его, а он сидел темен, как ночь, и на голом столе лишь бутылка голубовато посвечивала, деля свое одиночество с луком, чесноком да черняшкой. И хозяин, не удивившись ничуть, будто Ахматова каждый день его навещает, налил ей в свой стакан водки, а она, по словам его жены, «спокойно, величаво, как истая королева», «пригубила и выпила наполовину предложенное угощение». И даже Мандельштам, с его тоской по мировой культуре, с его тягой «От молодых еще воронежских холмов К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане», эти же самые строки цитировал. Хотя... нет ли здесь чего-то общего с его собственным: «Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди! Впереди густой туман клубится, И пустая клетка позади...»
Конечно, общее есть: это беззащитное Божье имя, вылетевшее из груди на волю вольную и в нашу ложь невольную...
Как не тревожиться за имя если и запятнанное, так только собственной безвинной кровью среди стольких, увы, до отвращения бессмертных имен, коим от крови чужой за века не отмыться, когда им не помогло даже особое освенцимское мыло, сваренное по людоедским рецептам.
Я недавно посмотрел в Оклахоме страшноватый фильм «Последний король Шотландии». Прообразом его центрального персонажа стал диктатор Уганды - Иди Амин. В конце фильма по экрану проплыли титры, сообщающие о том, что при его правлении было уничтожено 300 тысяч человек. И я заметил, что некоторых добропорядочных американских провинциалов-зрителей передернуло от такой, как им показалось, чудовищной цифры. Впрочем, не запамятовали ли они в этот момент, сколько жертв оказалось в Хиросиме, хотя тогда многие зрители еще и не родились, следовательно - вроде бы ни за что не отвечают. А что нам тогда говорить, если за нашими спинами проступают миллионы невинных жертв. Мы до сих пор не можем покаянно осознать этих потерь из-за их несметности. Не умещаются они ни в уме, ни в сердце. А, может, и ум и сердце у нас маловатые? И одним из погибших в ГУЛАГе оказался такой Божий человек, как Сергей Клычков, написавший: «Всего непосильнее злоба...» Говоря о смерти, он даже ее не ненавидел: «И сердцем одним до озноба Изведать предвечный покой, К груди лебединой сугроба Прильнув воспаленной щекой...»
Он никогда не оскорблял тех, кто оскорблял его, а иногда даже их обезоруживал отсутствием ответной ненависти. Обезоруживание безоружностью? Но жалость к «врагам народа» считалась предательством, а за безжалостность награждали.
Его арестовали в Катуаре, в последнем его пристанище на улице Чернышевского, о котором по мистическому совпадению написала роман жена Клычкова - Варвара Николаевна Горбачева (псевдоним - Арбачева). А вопрос ее героя: «Что делать?» вот уже столько лет был вбит в небо России, словно крюк, на котором иногда было впору повеситься, что и сделал тезка и друг Клычкова, неслучайно посвятивший ему одно из лучших стихотворений «Не жалею, не зову, не плачу...».
Варвара Николаевна, сама талантливая писательница, так записала сцену ареста, что мороз по коже идет, когда читаешь: «Он зажег свечу, прочитал ордер на арест и обыск... и так и остался сидеть в белом ночном белье, босой, опустив голову в раздумье... В неровном, слабом свете оплывающей свечи было в нем самом что-то такое пронзительно-горькое, неизбывно-русское, непоправимое».
Да не иссякнут такие «Божьи люди» на земле русской, и да иссякнет в нас раз и навсегда черная неблагодарность к тем, кто так любил и любит нас.
Я сломан был, разодран и разорван,
я состоял из собственных клочков
и понял с опозданием позорным,
что был большой поэт - Сергей Клычков.
Мне вечно будут сниться два Сережи -
две ладанки, какие я сберег.
И буду помнить я, что «люди Божьи»
и есть все вместе мой единый Бог.
Мне дан урок, что и при всех обидах,
и при землетрясеньях всех эпох
поэзия должна быть - полный выдох,
а жизнь - блаженно благодарный вдох.
Евгений ЕВТУШЕНКО
|