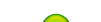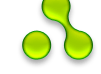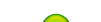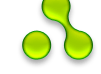...Такое чувство, будто поэты рождались испить Христову чашу.
Владимир ЛИЧУТИН
Последний Лель». Так назывался первый роман Сергея Антоновича Клычкова «Сахарный немец», опубликованный в сокращённом варианте. Так затем называли и его самого - последним Лелем русской литературы. Николай Клюев назвал роман «мечом словесным за русскую красоту» и выстроил преемственный ряд: Гоголь - Лесков - Мельников-Печерский - Сергей Клычков. Лель - славянский бог любви и страсти (всем знакомо слово «лелеять» - нежить, любить), сын богини красоты Лады, не поражал сердца стрелами, как Амур или Эрос, он возжигал их любовным пламенем, меча из ладоней искры. И вот этого Леля (Миколая Митрича Зайцева - см. «Война»), уже заметного в литературе поэта, автора двух книжек («Песни» и «Потаённый сад») забривают летом 1914-го, во «вторую мобилизацию», и отправляют на фронт - убивать либо умирать... Зайчик-Лель убивает первого немецкого солдата и долго не может выйти из состояния шока: он пролил чужую кровь, отнял чужую жизнь. Как теперь жить самому?.. Не Господь затеял эту войну - сатана. «Бес - моя основная философская тема», - напишет Клычков позже в дневнике.
Приехав на побывку в родное Чертухино, Зайчик и здесь видит полный развал - прежде всего в сознании людей. Возвращается на позиции и узнаёт от сослуживца, что на Счастливом озере, что неподалёку, где мирная трудовая жизнь рыбаков грезилась ему совершенной гармонической идиллией, «с сиротских слёз вся рыба сдохла», а по берегу проживают одни несчастные люди...
Война для поэта стала одним из самых больших потрясений. 1 января 1917 года он писал своему другу Петру Журову, с которым ходил пешком на озеро Светлояр, на дне коего, по преданию, упокоен необыкновенный в своей таинственной единственности град Китеж: «Прости меня за такое долгое молчание, за то, что не отозвался на твой голос, причиной была - пустыня души, которая у меня как-то съёжилась, завяла с первого дня этой войны. Первый выстрел будто разбудил, ошеломил, накинулся на меня, как вор на дороге жизни, и сделал меня из богача нищим». Мундир младшего офицера Клычков, находясь в Балаклаве, снял с себя одним из первых: потомственный мужик от сохи и сапожной липки, какое там «ваше благородие»!.. Ну, закончил школу прапорщиков - так туда и не рвался: направили как владеющего грамотой, в писаря определили...
Гражданская война обошлась без воина Сергея - на чьей бы то ни было стороне, но зацепить - зацепила. В начале 1918 года поэт женится на Евгении Лобовой (шафер - скульптор Сергей Конёнков), давней своей юношеской несчастной любви (предпочла его другому - по молодой глупости и без любви, как вспоминала она сама), от которой, как писал он в «Автобиографии», «вздумал я было наложить на себя руки». Война разрушила семью красавицы Евгении - муж погиб на фронте Первой мировой. Новобрачная жалуется на слабые лёгкие, страстно влюблённый и счастливый молодой муж (сам понюхавший на фронте немецкие отравляющие газы) решается на безумно авантюрный поступок: отправляет жену в Крым, занятый врангелевцами, и едет следом. Здесь его дважды приговаривают к расстрелу. Один раз - белые по доносу (точнее, пущенному слуху), что «приехал красный комиссар», другой раз - вольные птенцы из Гуляй-Поля батьки Махно, на узловой станции Чонгар, заподозрившие в Клычкове переодетого священника (у него были длинные чёрные волосы), потом - «жида пархатого», которых анархист-социалист Нестор Иванович, кавалер ордена Красного Знамени, жаловал избранно и под настроение.
Иван Старцев, встретивший Клычкова на одном из московских вокзалов в 1921 году (день и месяц не уточнены), вспоминал, что «вид у Клычкова был ужаснейший: оборванный, грязный. Заросший волосами, босой, с большой суковатой палкой в руках. Хриплый говор на «о»».
Имя Сергея Клычкова - житейски и творчески - напрямую связано с именами Есенина, Пришвина, Конёнкова (гостевали и живали у него в Дубровках), Блока, Куприна, Городецкого, Клюева, Белого, Ахматовой, Радимова, Ширяевца, Алексея Ганина, Пимена Карпова, Ивана Приблудного (Овчаренко), Петра Орешина, Максимилиана Волошина, Львова-Рогачевского, Модеста Ильича Чайковского (брата композитора), Бориса Садовского, Леонида Леонова (был крёстным отцом дочери Евгении), Бальмонта, Осипа и Надежды Мандельштам и других известных людей своего времени. Есенин, никогда не бывший щедрым на восторженные характеристики братьям по цеху, в своей программной статье «Ключи Марии» назвал Клычкова «истинно прекрасным народным поэтом».
Сергей Антонович Клычков родился в деревне Дубровки, в староверской семье, 5 июля (17 июля по новому стилю) - месяца сенозарника-липеца - 1889 года. В те времена Талдомская волость Калязинского уезда территориально относилась к Тверской губернии. Упирание его на «о» в разговоре - чисто тверское, а не московское, не вологодское и не архангелогородское, где «о» произносят в говоре совсем не по-тверски; коренные москвичи или ярославцы - люди «акающие»: «Ма-асква», «пра-аехали», «гыва-арю я вам...» - и т.п. Поэтому Николай Клюев в теперь уже классическом его стихотворении «Клеветникам искусства» (уж как тут не вспомнить Пушкина, его - «Клеветникам России»?) писал в 1932 году с нескрываемым гневом:
И от тверских дублёных пахот
С Антютиком лесным под мышкой,
Клычков размыкал ли излишки
Своих стихов - еловых почек,
И выплакал ли зори-очи
До мёртвых костяных прорех
На грай вороний, чёрный смех?!
Было отчего «выплакать зори-очи»: семейная жизнь не сложилась, и, надо сказать, стихотворный сборник Сергея Клычкова «Домашние песни» едва ли не целиком посвящён (однако - без какого-либо титульного посвящения!) любимой Женечке - это понятно по тем мучительным строчкам, в которых он изливал свою надорванную душу. Кажется, никто из исследователей его творчества этого не заметил. Взорван извечный, самый надёжный человеческий причал, тихая пристань, где можно отмякнуть душой и сердцем, - семья.
В дневнике он записывает: «Нет ничего страшнее, как потерять любовь». Давнему другу Петру Журову пишет о супруге: «Я её за любовь свою к ней люблю. Какая была любовь!» Первая фраза до сих пор потрясает меня: она - величайшая поэзия, хотя, вроде бы, всего лишь строчка из частного письма...
Может быть, спасёт работа? Опять дневниковая запись: «Искусство надо любить, как женщину: когда оно изменит, не грех и в петлю влезть!» В ответе на анкету журнала «На литературном посту» (№ 20-21, 1931) - «Что Вы написали за последние два года?» - пишет: «За последние два года я почти ничего не написал: критика имеет для меня сокрушительное значение, хотя я и не мимоза. Но я глубоко убеждён, что при необходимости для писателя быть в некоей протестующей позиции по отношению к общепринятым канонам для него столь же необходимо внимание со стороны тех, по отношению к которым он, может, является еретиком и протестантом, - требование, может, нелогичное, малозаконное, но, тем не менее, правильное, ибо камушки на берегу моря потому так и круглы, потому так и блещут, что их всегда и немолчно окатывает заботливая волна, - человеческое справедливое внимание столь же необходимо писателю, как, положим, и каждому человеку!»
Для более полного понимания сказанного следует вспомнить, какое было «милые, у нас тысячелетье на дворе»... Сергей Клычков (и многие - иже с ним) к началу 30-х годов пережил такие литературные ипостаси: русский поэт, «крестьянствующий поэт», «новокрестьянский поэт», «мужиковствующий», «бард кулацкой деревни», «бард кулацко-столыпинской России», «рупор кулацкой идеологии», «мракобес», «верный ученик отца кулацкой литературы Н.Клюева» - и т.п. В 1930 году ему было позволено издать седьмой по счёту и последний сборник оригинальных стихотворений под названием «В гостях у журавлей». Талдомская земля - ныне известная «Журавлиная родина»: на талдомских болотах серый журавль отъедается во время прилёта с «югов» по весне и во время осеннего отлёта в далёкие жаркие края. Герб города Талдома - журавль, стоящий на одной ноге, обутой в сапог, одновременно символизирует и «Журавлиную родину», и «Башмашную страну».
Затравленный самоназванными «марксистскими критиками» поэт в этом сборнике предстаёт перед читателем уже совсем не похожим на того, которого когда-то Сергей Городецкий назвал «птицей певчею»: «повёл очами - и запел», на поэзию которого (всего лишь первые журнальные публикации!) В. Вересаев в письме И.Бунину советовал обратить внимание, а Н.Гумилёв одобрил её со сдержанным достоинством, равно как и А.Блок («...Вы уже в литературе, так что помощи моей Вам не надо»). Если в 1912 году Клычков пишет: «милая, прекрасная Муза!», то в 1924-м - «Нерадостная Муза, неверная жена,/Чья ласка, как обуза,/ Улыбка, как вина». В «Кольце Лады» (1919 г.) жизнерадостное стихотворение «Зима»:
По-за лугу у крылечка
Льётся Речка-Быстротечка:
Берега её убраны
В янтари и жемчуга!
В последнем сборнике (1930г.) зима описана иначе:
Плывёт луна и воют волки,
В безумии ощерив рот,
И ель со снежною кошёлкой
Стоит, поникнув, у ворот!..
Закрыл метельный саван всполье,
И дальний лес, и пустоша...
И где с такой тоской и болью
Укроется теперь душа?..
Всё слилось в этом древнем мире,
И стало всё теперь сродни:
И звёзд мерцание в эфире,
И волчьи на снегу огни!..
Слово «саван» уже прозвучало... В 1929-м же году он пишет откровенное и чудовищное по искренности признание, в котором уже звучит полная обречённость и - никакой надежды на светлое будущее. Лично для себя. Хотя в сохранившихся дневниковых листках появляются такие (не датированные) записи: «Всё - во благо!!!» Затем, в какой-то иной день добавлено: «Всё!» И следом - «Надо, надо терпеть!» Ещё немногим позже: «Ничто так не обкрадывает меня, как хождение по советским учреждениям... Во благо ли это?» И - несомненно выстраданное и не раз обдуманное: «В наше время особенно и очевидно /неосуществимы/ три вещи: подвиг - потому что смешон, жертва - потому что бессмысленна, борьба - потому что невозможна».
Меня раздели донага
И достоверней были
На лбу приделали рога
И хвост гвоздём прибили...
Пух из подушки растрясли
И вываляли в дёгте,
И у меня вдруг отросли
И в самом деле когти...
И вот я с парою клешней
Теперь в чертей не верю,
Узнав, что человек страшней
И злей любого зверя...
Когти у Сергея Антоновича так и не отросли - он по своей природе был не злобным и не воинственным. Однако ж, кто был его «чернила и крови смеситель» (О.Мандельштам)? Сначала это был Пролеткульт, курируемый Н.К.Крупской и А.В.Луначарским, лично составлявшими список запрещённых к публикации переизданий русских классиков и подлежащих сожжению ранее изданных их произведений, куда попала и самая загадочная пушкинская «Сказка о золотом петушке...», поскольку в ней упоминается - пусть мифический, но - «царь Дадон»...
Почти всё, что было написано до 1917 года, было объявлено «буржуазно-дворянской литературой, идеологически враждебной пролетариату». На смену дубинноголовому Пролеткульту пришёл РАПП - Российская Ассоциация пролетарских писателей, в руководстве которой находились весьма хищные и предприимчивые люди, к пролетариату не имеющие отношения даже малейшего. РАПП - хлёсткая, рычащая аббревиатура, напоминающая возглас, сопровождающий удар кнута. Их литературный орган, журнал «На посту» (позже - «На литературном посту») столь бдительно следил за проявлением вражеских вылазок в литературе, что доставалось по сопатке даже А.М.Горькому - «основоположнику пролетарской социалистической литературы». Это сделал «барометрейший» Леопольд Авербах, которого Горький своим влиянием и авторитетом сумел оставить в Оргкомитете по созданию Союза писателей СССР. Который, чтобы остаться «у руля» русской литературы (или хоть у гирокомпаса), специально ездил с покаянием на о.Капри, когда постановлением ЦК ВКП(б) РАПП был распущен. Даже Владимир Маяковский был объявлен не революционным поэтом (ЛЕФ давно изжил себя), а всего лишь «попутчиком»; он был принят в РАПП в порядке «заслуженного недоразумения» незадолго до роспуска этой недоброй памяти, литературно-политической «конторы» - весь в огляде на своё творческое минувшее, не видя уже для себя перспектив.
«Крестьянские» писатели, не поющие дифирамбы новому режиму, были взяты «на карандаш»: практически все они были впоследствии расстреляны. Как это ни печально, но литературный посыл этой вакханалии дал А.М.Горький, который сначала напечатал в Берлине в начале 20-х годов свои очерки о русском крестьянстве, назвав его реакционным классом, которого и жалеть-то не стоит: мол, если завтра последний крестьянин исчезнет с лица земли, то послезавтра пролетариат сам научится выращивать зерно в пробирке.
Клычков, знакомый с Горьким (и Луначарским) по Капри, куда отправил его в путешествие и избавление «от несчастной любви» Модест Ильич Чайковский (февраль 1908 года), через 17 лет после знакомства посылает ему свой первый роман «Сахарный немец» с надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу Пешкову в знак давнишней каприйской любви и почтительного уважения к Максиму Горькому». Из Сорренто пришёл ответ: «Всюду встречаешь отлично сделанные фразы, меткие, пахучие слова, везде звонкий, весёлый и целомудренно чистый великорусский язык. Злоупотребление «местными речениями» - умеренное, что тоже является заслугой в наши дни эпидемического помешательства и некрасивого щегольства «фольклором». Отметил Горький и сказку «Ахламон», которая, по его словам, «безукоризненно сделана».
Однако сколько тайн хранит в себе бездонная человеческая душа!.. Неимоверно работоспособный писатель и прочитатель чужих произведений и рукописей (просто непостижимо - сколько он успевал прочитывать и всегда отмечать именно главное), безукоризненный литературный критик, Алексей Максимович, отправив Клычкову почти восторженное письмо, вскоре строчит другое - влиятельному партийцу Николаю Бухарину (от 13 июля 1925 г.), в котором предлагает уже программу борьбы с «крестьянской опасностью» в литературе, приведя в пример «Сахарного немца» Клычкова и стихи Павла Радимова. Горький подсказывает Бухарину (который печатно изливал душу: мол, долго верил, что его отец - сам дьявол и пытывал мать: не в блуде ли она зачала его в своём материнском чреве - потомок сатаны мог родиться только от блудницы!..), что ни в коем случае не нужно административно подавлять творчество «писателей-крестьян», «но критика - и нещадная - этой идеологии должна быть дана теперь же...»
«Любимец всей партии», Бухарин понял всё правильно. 12 января 1927 года «Правда» публикует его «Злые заметки», февральский номер журнала «Октябрь» их дублирует, следом большим тиражом выходит и отдельная брошюра. Вслед за публикацией этой «хулиганской статьи» (М.М.Пришвин) повсеместно начинают организовываться дискуссии об упаднической поэзии С.Есенина и о гибельном влиянии его на советскую литературу. Рапповцы-напостовцы выезжают с «литературными десантами» в глубинку для организации таких дискуссий. Разумеется, всякая (пусть и в прошлом!) связь с Есениным уже автоматически приравнивалась к посещению лепрозория без должного карантина. «Литературная энциклопедия» пишет, что с большой долей уверенности Есенина можно отнести к поэтам кулачества. Мало того - он «великодержавный шовинист», поскольку в 1924 году опубликовал сборник «Русь советская». Какая ещё, к чёрту, Русь?!! РСФСР надо было писать! Вот другой поэт «правильной» ориентации пишет в августовском номере «Правды» за 1925 год: «Русь!.. Сгнила? Умерла? Подохла? Вечная память тебе!» Аббревиатуру РСФСР, подменившую гордое вековое название страны - Россия, в интеллигентских кругах не принимали в то время очень многие. Бытовала даже вполне «лагерная», подпадающая под политическую статью «загадка»: «По краям - розы, затем - слёзы, а посерёдке - фига». Послереволюционная ситуация в стране напоминала ту, что была после неудачного выступления декабристов на Сенатской площади в 1825 году, о которой М.Лунин записал в дневнике: «Сегодня нельзя произнести «здравствуй» без политической подоплёки».
Автор беспримерного слово- и мыслетолкования - сотрудник Комакадемии Осип Мартынович Бескин. Он и стал для Сергея Клычкова тем главным смесителем чернила и крови, не пропуская ни одной публикации своей будущей жертвы или печатной его реплики. Впрочем, после 1930 года Клычкову лишь дважды позволили ответить в «Литературной газете» на откровенное жульничество со стороны «критики» - но лишь затем, чтобы ещё раз растолковать и продемонстрировать читателям и подписчикам хищный оскал затаившегося «кулацкого прихвостня». Изданная в 1930 году книжка «В гостях у журавлей» получила семь убийственных рецензий на «кулацкую» поэзию - семь струй из огнемёта. Вскоре издаётся учебник современной советской литературы, где авторы Поляк и Тагер в разделе «Кулацкая литература» мелко дробят косточки, по существу, уже и так раздавленному поэту, несравненному прозаику. Книга предназначена для будущих преподавателей литературы во всех краях необъятной России; все её постулаты учителя должны передать детям - вестникам грядущего...
Хорошо, когда у дома
Сад цветёт в полдесятины,
Хорошо иметь корову,
Добрую жену и сына...
Только самая распоследняя кулацкая сволочь могла написать такое!..
Журнал «На подъёме», сообщая об итогах Всероссийского съезда крестьянских писателей, уведомил своих читателей, что «старые реакционные писатели типа Клычкова и Клюева к крестьянским писателям не имеют никакого отношения». И здесь - отлучение...
Сергей Антонович, не зная, чем с утра покормить новую семью (женился во второй раз на писательнице Варваре Горбачёвой, «героине своих обязанностей», по словам В.Белинского), опять идёт на поклон к Максиму Горькому - признанному авторитету как в литературной, так и в политической среде. Алексей Максимович, прекрасно понимая, что, невзирая на свой авторитет, писательской плетью политического обуха не перешибёшь, советует Клычкову заняться переводами. Клычков переводит марийские народные песни, грузинских народных поэтов - Акакия Церетели, Георгия Леонидзе, других не менее талантливых авторов, издаёт стихотворный сборник «Сараспан». Помещённый в этом сборнике перевод узбекской легенды «Мудрец Эдыга» в черновом варианте заканчивается «отсебятиной» - выкриком наболевшей, бессмысленно и беспричинно затравленной души: строки эти похожи на лопнувший нарыв, хотя слабый отсвет надежды всё-таки в них есть...
Смело вденув ногу в стремя,
Я бы юношею стал,
И догнал бы я, нагнал
И судьбу свою, и время!
Тучи над его головой сгущались всё явственнее. Как выяснил поэт Станислав Куняев, получив краткий доступ к архивам КГБ, агентурные донесения на Клычкова стали поступать на Лубянку-2 уже с 1934 года. Клычков давно всё понимает и всё чувствует; понимает и то, что он обречён. Одна из знакомых Сергея Антоновича писала: «В 1934-м году я встретила Клычкова в последний раз... И была потрясена жуткой переменой, которая с ним произошла.... Осунувшийся... Дряблый... Растерянный... Разбросанный - он выглядел значительно старше своих лет...» Да, но талант - он и есть талант! Закатай его хоть в «асфальтовую лужу», он проявит себя в сохранившихся строках. Прошу читателя вдуматься в каждую ниже приведённую строчку: где за каждым словом - и поэзия, и судьба, и плач, и горечь, и любовь, и боль невыносимая, и безысходность, и - биография...
В стихотворении, посвященном новой жене Варваре Горбачёвой, он пишет в это время:
Вот она - весна с повязкой
По кудрям зари лесной.
Может быть, последней сказкой
Вдаль уходит - за весной,
За весной, твоей судьбою.
Дальше - страх, и ночь, и синь!
Сядь со мною, сядь со мною
Иль навек уйди и сгинь.
Завтра, может быть, не вспыхнет
Над землёй зари костёр.
Сердце навсегда утихнет,
Смерть придёт - полночный вор.
Пусть же здесь, как жемчугами
Убирал я каждый след,
Память сгинет вместе с нами
В чёрный омут чёрных лет.
Но останься ты (до срока),
Чтоб хранить последний шаг,
Ведь недаром же сорока
Поутру сказала - враг!
|